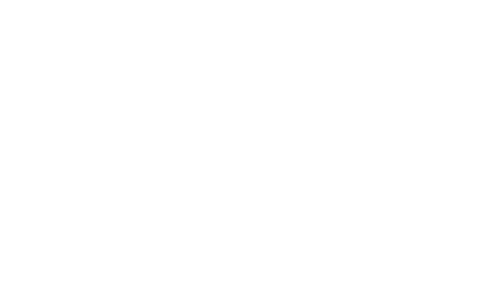Околонаучная суета
Первоначально в группу механики входила группа переработки полимеров, которой управлял Гена Рачинский, а сам комплекс задумывался как вспомогательный, испытательный для продуктов, которые производила технологическая лаборатория под руководством Альфреда Адольфовича Брикенштейна. Затем группа Рачинского перешла в состав лаборатории Брикенштейна, а мы остались сами по себе с обязанностью проводить некоторые стандартные испытания. До поры до времени ситуация сохранялась, но как-то все мы вместе с Рачинским были приглашены к заместителю директора Александру Евгеньевичу Шилову, где присутствовал также Брикенштейн. Александр Евгеньевич был любезен: он говорил о важности испытаний образцов, об изготовлении образцов… Он считает, что необходимо объединить группы переработки и механики полимеров, и в перспективе сделать лабораторию... В общем, нарисовал очень радужные перспективы... Я по глупости клюнул на приманку и согласился возглавлять новое образование, хотя и чувствовал какой-то подвох... Через несколько дней подвох обнажился: оказалось, что Гена Рачинский на вверенном ему экструдере организовал производство пластмассовых пуговиц для мастерской, которая шила халаты в соседнем с Черноголовкой совхозе им. Чапаева. Дело обнаружилось, и Брикенштейн поспешил избавиться от подозрительного бизнеса. Можно лишь гадать, знал ли Александр Евгеньевич о производстве пуговиц, или же Брикенштейн использовал его в тёмную и сумел убедить действовать так, как было описано.
Естественно, комиссия под председательством А.Е. Шилова не сочла возможным рекомендовать меня на должность старшего научного сотрудника из-за ситуации с производством пуговиц, к которому я не имел никакого отношения. На этом же основании я не получил рекомендацию парткома для планируемой командировки в Варшаву. Меня это возмутило настолько, что я поспешил отказаться от руководства группой. Вообще-то заботы о каких-то стандартных испытаниях меня тяготили, и я почувствовал себя свободным от каких либо обязательств.
Я описал ситуацию Георгию Владимировичу Виноградову, и он немедленно договорился со своей дирекцией о возможнеости принять меня на должность старшего научного работника в лабораторию реологии, но в это время меня всё же избрали на эту должность в Черноголовке, и я поехал в Громково, где Георгий Владимирович с женой Ксенией Глебовной отдыхали в пансионате МИДа, чтобы сообщить ему, что я всё же предпочитаю остаться в Черноголовке. Георгий Владимирович сказал, что понимает меня.
***
Моя докторская диссертация, посвященная теории вязкоупругости полимеров, оказалась неудачной. Уже завершая её, я понял, что следует использовать другой подход, который был реализован позже вместе с моими студентами и аспирантами. А в то время? Диссертация всё же завершала определённый этап в развитии представлений о вязкоупругости полимеров. Я решился не останавливаться, Георгий Владимирович меня одобрил, и я отдал рукопись диссертации предполагаемому оппоненту Георгию Михайловичу Бартеневу, который держал её долгое время и приговаривал:
-- Лежит и ждёт своей очереди.
Другим оппонентом согласился быть Григорий Львович Слонимский, с кем я имел очень приятные беседы. По многочисленным признакам я понял, что в среде мэтров предварительно (до защиты диссертации) складывается представление, кто достоин быть доктором наук, а кто нет. Это мнение и определяет ситуацию.
Осознание того, что проблема решена не так как надо, вернее, остаётся нерешенной, мне сильно мешало при обсуждении; я очень неудачно выступил у Льва Ароновича Файтельсона в Риге. Я понимал уже, что не так важно, что там написано в диссертации, важно хорошо представить свои результаты, что у меня не всегда получалось. Я не торопил события и занимался продвижением моей диссертации без особого энтузиазма. Всё же защита успешно состоялась 26 декабря 1974 года. Я благодарен Сергею Прокопьевичу Папкову, который поддержал меня при утверждении диссертации.
***
Лев Сергеевич Присс работал в научно-исследовательском институте шинной промышленности, он был физиком, занимавшимся изучением высокоэластичности и релаксации полимеров, и в его лаборатории выполнялись теоретические работы, что иногда удивляло его институтских коллег. Лев Сергеевич рассказывал, что когда его сотрудник В. Попов докладывал о своей работе, старожилы института интересовались: где же эксперимент, на что Лев Сергеевич пояснял:
-- Он же теоретик.
Старожилы института удивлялись:
-- Надо же. Такой молодой, а уже теоретик.
Теоретиком в институте считали того, кто не занимается экспериментальными исследованиями, что обычно случается с некоторыми заслуженными сотрудниками после многих лет работы.
Лев Сергеевич придерживался старомодных этических принципов и сохранял веру в истинную ценность и чистоту науки. Он всегда был очень требователен к своим результатам, но я всегда находил какой-нибудь дефект в его рассуждениях, как, впрочем, и он в моих. Когда мы встречались, мы спорили, и Лев Сергеевич не успокаивался, пока не находил убедительного объяснения, которое он горячо отстаивал на очередной встрече. Я говорил, что, если дело пойдёт таким образом, у нас скоро не будет никаких разногласий, но Лев Сергеевич возражал:
-- Тогда нам будет совершенно неинтересно разговаривать.
Он был очень требователен не только к себе, но и к другим, что иногда выглядело анахронизмом. Он отказался дать отзыв одному очень квалифицированному претенденту на докторскую степень, принимая буквально требования ВАКа, что диссертация должна определять новое научное направление, на что я сказал:
-- Тогда мы бы имели только две докторские диссертации по динамике полимеров: направление, связанное с рептациями и то, что представляет наша группа.
-- Есть ещё и другие направления, – возражал Лев Сергеевич.
Лев Сергеевич занимал достойное место в науке о высокоэластичных материалах. Он входил в оргкомитеты пышных международных симпозиумов по резинам и шинам и способствовал нашему участию в международных симпозиумах по резине и шинам в Киеве (сентябрь 1978), где я познакомился с профессором Graessley из США, и в Москве (сентябрь 1984), где также были интересные встречи.
В последние годы жизни Лев Сергеевич писал книгу о высокоэластичности и вязкоупругости сеточных полимеров, но я не знаю, успел ли он её закончить.
***
Несколько раз я оказывался в сотрудничестве с N. N-ичем N, у которого был очень оригинальный стиль работы. Для него проблема существовала только, как возможность написать статью. Результатом являлась публикация, что бы там ни содержалось.
-- Давай поставим эту цифру. Кому это нужно проверять? – говорил он.
Он твёрдо верил (и не без оснований), что успех учёного оценивается по количеству публикаций. Однажды, вернувшись из-за границы, он бодро сообщил:
-- Я узнал, как дают Нобелевскую премию. По совокупности работ.
У него уже было более пятисот публикаций, которые, по его мнению, уже тянули на Нобелевскую премию.
Моему бывшему аспиранту Кокорину он как-то пообещал помочь напечатать статью в иностранном журнале. Кокорин представил текст, и N. N-ич сказал ему, что нужно поставить и его фамилию, чтобы отдать на перевод. Затем оказалось, что для того, чтобы напечатать, необходимо убрать фамилию Кокорина, и текст был успешно включён в монографию N. N-ича.
Однажды мы пытались подготовить статью для Journal of Rheology, я представил первоначальный вариант, который оставил N. для обработки и отправки, когда уезжал на Мальту в 1994 году. Когда после рецензий статья попала ко мне, я увидел, что текст был искажён, были ошибки в формулах и даже фрагменты формул были пропущены. Ссылки на работы были бессмысленно переставлены, N. беспокоился лишь о том, чтобы вставить своё имя. Я написал резкие возражения, после которых наше сотрудничество приостановилось.
Сейчас (2012 год) N. N-ич N. работает директором Института РАН и собирается стать академиком.
***
В 1984 году Алтайский Политехнический Институт отправил для меня заявку на командировку в Кембридж, и неожиданно для института и меня министерство дало согласие, то есть выделило деньги на поездку. Я мечтал поехать к профессору Эдвардсу, который занимался динамикой полимеров и принялся оформлять всё, что нужно, не вполне веря в реальность происходящего.
Поездка должна была быть одобрена парткомом института, и вот я присутствую на заседании. Члены парткома уютно расположились за большим столом в конференц-зале, меня спрашивают, и я начинаю что-то отвечать, не поднимаясь, но секретарь парткома Карпов возмущается:
-- Да встаньте же!
Я подскочил, не дожидаясь возможного продолжения:
-- ... когда с вами разговаривают.
На общественной комиссии в райкоме, уже наученный, я заранее поднялся навстречу вопросам, но две старушки мирно забормотали:
-- Да сидите же, сидите.
Я собрал все документы, отдал на оформление и через некоторое время получил отказ от местных компетентных органов без каких либо комментариев. Всё же через некоторое время, в 1998 году, я побывал в Кембридже и имел очень интересные беседы с профессором сэром Эдвардсом, но об этом чуть позже.
***
Преподаватели высших учебных заведений имели право и обязанность раз в пять лет повышать свою квалификацию с отрывом от основной работы. Я воспользовался этим, чтобы провести февраль – апрель 1985 года в Московском Университете при кафедре Андрея Николаевича Тихонова. На меня не возлагалось никаких обязанностей, но мне хотелось послушать лекции по экономической теории: я стремился понять сущность экономических процессов. Кроме того, на механико-математическом факультете я прослушал некоторые курсы, читаемые специально для повышающих квалификацию: Гнеденко по теории массового обслуживания и Успенского по теории чисел. Андрей Чеславович Казаржевский прочитал слушателям несколько незабываемых лекций о мастерстве лектора. Я воспользовался ситуацией, чтобы самому выступить с докладами: 4 марта 1985 года в ИНХС с сообщением «Развитие молекулярной теории вязкоупругости линейных полимеров», а 10 марта на семинаре на химическом факультете у Кабанова с подобным сообщением.
Я жил в главном корпусе Университета в блоке с Язепом Ароновичем Эйдусом из Латвийского университета (Рига), который удивил меня своей активностью. Ежедневно в шесть часов утра он покидал блок с лыжами, которые взял напрокат, совершал пробежку, после чего садился за работу: переводил на латышский с латыни сочинение Лукреция «О природе вещей». Он писал впоследствии мне, что за «незабываемый ФПК-ный период перевёл около 4600 гекзаметров Лукреция; осталось около 3000, и не знаю, как до них добраться: мне для этого нужно одиночество и отсутствие ′суеты мирской′». На курсах повышения квалификации мы были свободны от ′суеты мирской′: каждый день встречались за чашкой зелёного чая, заботу о котором я взял на себя, и обменивались впечатлениями. Несколько позже к нам присоединился Николай Яковлевич Соловьёв, бывший военный, а в то время преподаватель философии в Литовском университете (Вильнюс), так что у нас сложилась великолепная компания.
Язеп Аронович рассказывал о своих приключениях; о них можно прочитать в журнале «Родина» (№8 за 1989 год); вкратце они сводятся к следующему. В предвоенной буржуазной Латвии Советский Союз был идеалом для многих молодых латышей; юный Язеп, ещё будучи учеником гимназии, воспринял коммунистические убеждения, и студентом университета уже принимал участие в коммунистическом подполье, за что был заключен в тюрьму в буржуазной Латвии. По выходе из заключения, он отправился продолжать образование в Лондон, где окончил физический факультет университета в июле 1941 года. В 1940 году Латвия стала советской, Язеп рвался на родину, но только после начала войны в 1941 году ему удалось перебраться в Советский Союз и вступить в Латышскую стрелковую дивизию, которая принимала участие в битве за Москву. В годы войны он успел побывать партизаном и диктором радио, вещавшего на латышском языке. С 1944 года он работает в латвийском университете, но в конце сороковых годов был арестован и обвинен как английский шпион. Он вышел из нового заключения в 1956 году и с тех пор до самой смерти в 2004 году работал в Латвийском университете.
По приглашению Льва Ароновича Файтельсона весной 1990 года я участвовал в конференции по механике композитных материалов в Риге и воспользовался случаем, чтобы навестить Язепа Ароновича в здании Латвийского университета, где, как написано на мемориальной доске, в политехническом институте работал известный химик Оствальд. В коридорах здания бегали девушки в национальных латышских костюмах – наверное, был какой-то праздник. Мы пили кофе и обсуждали события, Язеп Аронович подарил мне оттиск из журнала «Родина» с его интервью, в котором он описывал свои приключения. Я не знал, какое время действует на железной дороге, и отправился на вокзал заранее, по московскому времени, но мне пришлось ждать отправления поезда на Москву: время уже было на час позже московского. Латвия готовилась к независимости.
Николай Яковлевич Соловьёв интересовался и писал о семье и воспитании детей (можно найти книгу: Соловьев Н. Я. Брак и семья сегодня.— Вильнюс: Минтис, 1977). Он очень гордился, что газета «Правда» опубликовала его статью. Я рассказал ему об организаторе детского приюта в Алтайском В.С. Ершове, что его заинтересовало, и позже переслал ему книгу «Жизнь посвящаю детям» о В.С. Ершове. Николай Яковлевич Соловьёв навестил меня в Москве в 1988 году.
В июле 1992 года мы провели две недели отпуска в очаровательном местечке Швенченеляй (Литва) в обществе необыкновенно доброй и толстой собаки на цепи и флегматичного белого кота, который в первую же ночь залез к нам через окно и расположился в ногах. Стояла жаркая погода, и мы проводили время на реке, в лесу и на озере. На обратном пути я надеялся встретиться с Николаем Яковлевичем в Вильнюсе; я позвонил и узнал, что он внезапно скончался от сердечного приступа.
Первоначально в группу механики входила группа переработки полимеров, которой управлял Гена Рачинский, а сам комплекс задумывался как вспомогательный, испытательный для продуктов, которые производила технологическая лаборатория под руководством Альфреда Адольфовича Брикенштейна. Затем группа Рачинского перешла в состав лаборатории Брикенштейна, а мы остались сами по себе с обязанностью проводить некоторые стандартные испытания. До поры до времени ситуация сохранялась, но как-то все мы вместе с Рачинским были приглашены к заместителю директора Александру Евгеньевичу Шилову, где присутствовал также Брикенштейн. Александр Евгеньевич был любезен: он говорил о важности испытаний образцов, об изготовлении образцов… Он считает, что необходимо объединить группы переработки и механики полимеров, и в перспективе сделать лабораторию... В общем, нарисовал очень радужные перспективы... Я по глупости клюнул на приманку и согласился возглавлять новое образование, хотя и чувствовал какой-то подвох... Через несколько дней подвох обнажился: оказалось, что Гена Рачинский на вверенном ему экструдере организовал производство пластмассовых пуговиц для мастерской, которая шила халаты в соседнем с Черноголовкой совхозе им. Чапаева. Дело обнаружилось, и Брикенштейн поспешил избавиться от подозрительного бизнеса. Можно лишь гадать, знал ли Александр Евгеньевич о производстве пуговиц, или же Брикенштейн использовал его в тёмную и сумел убедить действовать так, как было описано.
Естественно, комиссия под председательством А.Е. Шилова не сочла возможным рекомендовать меня на должность старшего научного сотрудника из-за ситуации с производством пуговиц, к которому я не имел никакого отношения. На этом же основании я не получил рекомендацию парткома для планируемой командировки в Варшаву. Меня это возмутило настолько, что я поспешил отказаться от руководства группой. Вообще-то заботы о каких-то стандартных испытаниях меня тяготили, и я почувствовал себя свободным от каких либо обязательств.
Я описал ситуацию Георгию Владимировичу Виноградову, и он немедленно договорился со своей дирекцией о возможнеости принять меня на должность старшего научного работника в лабораторию реологии, но в это время меня всё же избрали на эту должность в Черноголовке, и я поехал в Громково, где Георгий Владимирович с женой Ксенией Глебовной отдыхали в пансионате МИДа, чтобы сообщить ему, что я всё же предпочитаю остаться в Черноголовке. Георгий Владимирович сказал, что понимает меня.
***
Моя докторская диссертация, посвященная теории вязкоупругости полимеров, оказалась неудачной. Уже завершая её, я понял, что следует использовать другой подход, который был реализован позже вместе с моими студентами и аспирантами. А в то время? Диссертация всё же завершала определённый этап в развитии представлений о вязкоупругости полимеров. Я решился не останавливаться, Георгий Владимирович меня одобрил, и я отдал рукопись диссертации предполагаемому оппоненту Георгию Михайловичу Бартеневу, который держал её долгое время и приговаривал:
-- Лежит и ждёт своей очереди.
Другим оппонентом согласился быть Григорий Львович Слонимский, с кем я имел очень приятные беседы. По многочисленным признакам я понял, что в среде мэтров предварительно (до защиты диссертации) складывается представление, кто достоин быть доктором наук, а кто нет. Это мнение и определяет ситуацию.
Осознание того, что проблема решена не так как надо, вернее, остаётся нерешенной, мне сильно мешало при обсуждении; я очень неудачно выступил у Льва Ароновича Файтельсона в Риге. Я понимал уже, что не так важно, что там написано в диссертации, важно хорошо представить свои результаты, что у меня не всегда получалось. Я не торопил события и занимался продвижением моей диссертации без особого энтузиазма. Всё же защита успешно состоялась 26 декабря 1974 года. Я благодарен Сергею Прокопьевичу Папкову, который поддержал меня при утверждении диссертации.
***
Лев Сергеевич Присс работал в научно-исследовательском институте шинной промышленности, он был физиком, занимавшимся изучением высокоэластичности и релаксации полимеров, и в его лаборатории выполнялись теоретические работы, что иногда удивляло его институтских коллег. Лев Сергеевич рассказывал, что когда его сотрудник В. Попов докладывал о своей работе, старожилы института интересовались: где же эксперимент, на что Лев Сергеевич пояснял:
-- Он же теоретик.
Старожилы института удивлялись:
-- Надо же. Такой молодой, а уже теоретик.
Теоретиком в институте считали того, кто не занимается экспериментальными исследованиями, что обычно случается с некоторыми заслуженными сотрудниками после многих лет работы.
Лев Сергеевич придерживался старомодных этических принципов и сохранял веру в истинную ценность и чистоту науки. Он всегда был очень требователен к своим результатам, но я всегда находил какой-нибудь дефект в его рассуждениях, как, впрочем, и он в моих. Когда мы встречались, мы спорили, и Лев Сергеевич не успокаивался, пока не находил убедительного объяснения, которое он горячо отстаивал на очередной встрече. Я говорил, что, если дело пойдёт таким образом, у нас скоро не будет никаких разногласий, но Лев Сергеевич возражал:
-- Тогда нам будет совершенно неинтересно разговаривать.
Он был очень требователен не только к себе, но и к другим, что иногда выглядело анахронизмом. Он отказался дать отзыв одному очень квалифицированному претенденту на докторскую степень, принимая буквально требования ВАКа, что диссертация должна определять новое научное направление, на что я сказал:
-- Тогда мы бы имели только две докторские диссертации по динамике полимеров: направление, связанное с рептациями и то, что представляет наша группа.
-- Есть ещё и другие направления, – возражал Лев Сергеевич.
Лев Сергеевич занимал достойное место в науке о высокоэластичных материалах. Он входил в оргкомитеты пышных международных симпозиумов по резинам и шинам и способствовал нашему участию в международных симпозиумах по резине и шинам в Киеве (сентябрь 1978), где я познакомился с профессором Graessley из США, и в Москве (сентябрь 1984), где также были интересные встречи.
В последние годы жизни Лев Сергеевич писал книгу о высокоэластичности и вязкоупругости сеточных полимеров, но я не знаю, успел ли он её закончить.
***
Несколько раз я оказывался в сотрудничестве с N. N-ичем N, у которого был очень оригинальный стиль работы. Для него проблема существовала только, как возможность написать статью. Результатом являлась публикация, что бы там ни содержалось.
-- Давай поставим эту цифру. Кому это нужно проверять? – говорил он.
Он твёрдо верил (и не без оснований), что успех учёного оценивается по количеству публикаций. Однажды, вернувшись из-за границы, он бодро сообщил:
-- Я узнал, как дают Нобелевскую премию. По совокупности работ.
У него уже было более пятисот публикаций, которые, по его мнению, уже тянули на Нобелевскую премию.
Моему бывшему аспиранту Кокорину он как-то пообещал помочь напечатать статью в иностранном журнале. Кокорин представил текст, и N. N-ич сказал ему, что нужно поставить и его фамилию, чтобы отдать на перевод. Затем оказалось, что для того, чтобы напечатать, необходимо убрать фамилию Кокорина, и текст был успешно включён в монографию N. N-ича.
Однажды мы пытались подготовить статью для Journal of Rheology, я представил первоначальный вариант, который оставил N. для обработки и отправки, когда уезжал на Мальту в 1994 году. Когда после рецензий статья попала ко мне, я увидел, что текст был искажён, были ошибки в формулах и даже фрагменты формул были пропущены. Ссылки на работы были бессмысленно переставлены, N. беспокоился лишь о том, чтобы вставить своё имя. Я написал резкие возражения, после которых наше сотрудничество приостановилось.
Сейчас (2012 год) N. N-ич N. работает директором Института РАН и собирается стать академиком.
***
В 1984 году Алтайский Политехнический Институт отправил для меня заявку на командировку в Кембридж, и неожиданно для института и меня министерство дало согласие, то есть выделило деньги на поездку. Я мечтал поехать к профессору Эдвардсу, который занимался динамикой полимеров и принялся оформлять всё, что нужно, не вполне веря в реальность происходящего.
Поездка должна была быть одобрена парткомом института, и вот я присутствую на заседании. Члены парткома уютно расположились за большим столом в конференц-зале, меня спрашивают, и я начинаю что-то отвечать, не поднимаясь, но секретарь парткома Карпов возмущается:
-- Да встаньте же!
Я подскочил, не дожидаясь возможного продолжения:
-- ... когда с вами разговаривают.
На общественной комиссии в райкоме, уже наученный, я заранее поднялся навстречу вопросам, но две старушки мирно забормотали:
-- Да сидите же, сидите.
Я собрал все документы, отдал на оформление и через некоторое время получил отказ от местных компетентных органов без каких либо комментариев. Всё же через некоторое время, в 1998 году, я побывал в Кембридже и имел очень интересные беседы с профессором сэром Эдвардсом, но об этом чуть позже.
***
Преподаватели высших учебных заведений имели право и обязанность раз в пять лет повышать свою квалификацию с отрывом от основной работы. Я воспользовался этим, чтобы провести февраль – апрель 1985 года в Московском Университете при кафедре Андрея Николаевича Тихонова. На меня не возлагалось никаких обязанностей, но мне хотелось послушать лекции по экономической теории: я стремился понять сущность экономических процессов. Кроме того, на механико-математическом факультете я прослушал некоторые курсы, читаемые специально для повышающих квалификацию: Гнеденко по теории массового обслуживания и Успенского по теории чисел. Андрей Чеславович Казаржевский прочитал слушателям несколько незабываемых лекций о мастерстве лектора. Я воспользовался ситуацией, чтобы самому выступить с докладами: 4 марта 1985 года в ИНХС с сообщением «Развитие молекулярной теории вязкоупругости линейных полимеров», а 10 марта на семинаре на химическом факультете у Кабанова с подобным сообщением.
Я жил в главном корпусе Университета в блоке с Язепом Ароновичем Эйдусом из Латвийского университета (Рига), который удивил меня своей активностью. Ежедневно в шесть часов утра он покидал блок с лыжами, которые взял напрокат, совершал пробежку, после чего садился за работу: переводил на латышский с латыни сочинение Лукреция «О природе вещей». Он писал впоследствии мне, что за «незабываемый ФПК-ный период перевёл около 4600 гекзаметров Лукреция; осталось около 3000, и не знаю, как до них добраться: мне для этого нужно одиночество и отсутствие ′суеты мирской′». На курсах повышения квалификации мы были свободны от ′суеты мирской′: каждый день встречались за чашкой зелёного чая, заботу о котором я взял на себя, и обменивались впечатлениями. Несколько позже к нам присоединился Николай Яковлевич Соловьёв, бывший военный, а в то время преподаватель философии в Литовском университете (Вильнюс), так что у нас сложилась великолепная компания.
Язеп Аронович рассказывал о своих приключениях; о них можно прочитать в журнале «Родина» (№8 за 1989 год); вкратце они сводятся к следующему. В предвоенной буржуазной Латвии Советский Союз был идеалом для многих молодых латышей; юный Язеп, ещё будучи учеником гимназии, воспринял коммунистические убеждения, и студентом университета уже принимал участие в коммунистическом подполье, за что был заключен в тюрьму в буржуазной Латвии. По выходе из заключения, он отправился продолжать образование в Лондон, где окончил физический факультет университета в июле 1941 года. В 1940 году Латвия стала советской, Язеп рвался на родину, но только после начала войны в 1941 году ему удалось перебраться в Советский Союз и вступить в Латышскую стрелковую дивизию, которая принимала участие в битве за Москву. В годы войны он успел побывать партизаном и диктором радио, вещавшего на латышском языке. С 1944 года он работает в латвийском университете, но в конце сороковых годов был арестован и обвинен как английский шпион. Он вышел из нового заключения в 1956 году и с тех пор до самой смерти в 2004 году работал в Латвийском университете.
По приглашению Льва Ароновича Файтельсона весной 1990 года я участвовал в конференции по механике композитных материалов в Риге и воспользовался случаем, чтобы навестить Язепа Ароновича в здании Латвийского университета, где, как написано на мемориальной доске, в политехническом институте работал известный химик Оствальд. В коридорах здания бегали девушки в национальных латышских костюмах – наверное, был какой-то праздник. Мы пили кофе и обсуждали события, Язеп Аронович подарил мне оттиск из журнала «Родина» с его интервью, в котором он описывал свои приключения. Я не знал, какое время действует на железной дороге, и отправился на вокзал заранее, по московскому времени, но мне пришлось ждать отправления поезда на Москву: время уже было на час позже московского. Латвия готовилась к независимости.
Николай Яковлевич Соловьёв интересовался и писал о семье и воспитании детей (можно найти книгу: Соловьев Н. Я. Брак и семья сегодня.— Вильнюс: Минтис, 1977). Он очень гордился, что газета «Правда» опубликовала его статью. Я рассказал ему об организаторе детского приюта в Алтайском В.С. Ершове, что его заинтересовало, и позже переслал ему книгу «Жизнь посвящаю детям» о В.С. Ершове. Николай Яковлевич Соловьёв навестил меня в Москве в 1988 году.
В июле 1992 года мы провели две недели отпуска в очаровательном местечке Швенченеляй (Литва) в обществе необыкновенно доброй и толстой собаки на цепи и флегматичного белого кота, который в первую же ночь залез к нам через окно и расположился в ногах. Стояла жаркая погода, и мы проводили время на реке, в лесу и на озере. На обратном пути я надеялся встретиться с Николаем Яковлевичем в Вильнюсе; я позвонил и узнал, что он внезапно скончался от сердечного приступа.